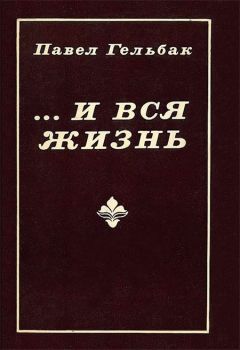Иван Корнилов - В бесконечном ожидании [Повести. Рассказы]
— Да что ты один все мучишься? Покличь Пашу, откажется, что ли? — сказала однажды Петровна.
— Еще чего надумала. Он отдыхать приехал.
— Да к отдыхает же.
И Максим, чувствуя великую неловкость, подошел к Павлу:
— Помоги, сын, стропилину поставить, одному несподручно.
Возились они с час. Сверху, осыпаясь, солома и труха попадали за шиворот — Павел морщился, чесался.
— Мешает? — весело подмигнув, спросил Максим.
— Отвык уже.
Постепенно разговор наладился, потек непринужденно, и Максим решился спросить, о чем раньше стеснялся:
— Сынок, а чего это Инга каждое утро обруч-то на себя надевает? Мы с матерью переживаем: не болеет ли?
Павел хотел что-то сказать, да поперхнулся на полслове и долго, до слез, хохотал.
— Ох, пап, ну скажешь ты… Ха-ха-ха… Да это ж упражнение, хулахуп называется… чтоб не полнеть и вообще. А ты, ох-хо, — и опять захохотал.
— А я-то чудак, думал… Эх, темнота наша… Сынок, может, и солому заодно уж на сарай помечем?
Павел подумал-подумал и признался.
— Давай, пап, как-нибудь в другой раз, я уже потеть начал, — и направился в кухню, к матери.
А Максим свысока сарая случайно кинул взгляд на Тростянскую гору. Там шел грузовик. Он подумал, что это попутка, может быть, везет его сына Андрея. Максим сейчас же отмахнул от себя эту робкую неуверенную мысль: «Никаких «может быть», с этой попуткой он приедет наверняка». И отчего-то такая тоска подсосалась вдруг к сердцу, что Максим слез расторопно с сарая и поспешил в избу. Он достал с голландки клетчатый шахматный коробок, сухою тряпкой смахнул с него тонкую слоенку пыли, пересчитал, все ли в целости куколки. Куколки были все, тридцать две штуки. Он сел на табуретку, высыпал их в подол рубахи, накрыл тяжелыми ладонями и, уставясь на дверь, стал ждать, когда она отворится.
Вот сейчас, чудилось Максиму, отворится дверь, и войдет он, сухой и усталый, как скиталец, а глаза красными прожилками полны. Прижмется к отцу щекой, скажет: «Вот и я пришлепал». А Петровну огорошит с порога: «Так есть хочется, мам». Есть будет молча, не торопясь, потом разуется, в они все втроем на огород пойдут и, пока заглянут под каждый куст картошки да обойдут тыквенные плети, наговорятся обо всем всласть. С заходом солнца сын встретит из стада корову, будет чесать ей подбрюдок и приговаривать: «Ты наша еще, моя старушка?» — и еще какие-то озорные слова, а корова, вытянув блаженно шею, будет усердно слушать его мудреные речи да редко, со значением вздыхать…
Первые дня три он будет ходить как чумовой, потом отоспится и поедет с отцом на покос; и хоть косец из него, сказать по правде, никудышный, весело отчего-то с ним Максиму, делится он с сыном самым сердечным словом.
Вечерами Андрея будет навещать его однолеток Витька Бессонов; уклюнутся они над клетчатой доской и будут посапывать до вторых петухов. А Максим, хоть и не смыслит ни шиша в бессловесной их потехе, будет сидеть с ними рядышком и в четверть голоса мурлыкать: «Ух ты, сад, да ты мой сад, сад зелененький», — и, глядя, какой худущий его сын против краснощекого сильного Витьки, будет думать всегда одну и ту же думу: «Зря упустил его из-под своей крыши, зря».
Мысли увели Максима так далеко, что он не расслышал, как подошла Петровна. Она теребила его за плечо:
— Да ты уснул, что ли? Вот нечистый… Вставай, кум Антон муку из Марьевки привез.
— Иду, нечего трезвонить, слышу, — неожиданно осердился Максим.
Он бережно ссыпал куколки на свое место, закрыл на застежку клетчатый коробок и тяжелой разбитой походкой пошел разгружать муку.
АндрейКак все-таки приятно возвращаться из последнего рейса! Теперь ты сама себе царица, богиня, княжна… Хочешь — растянись на раскладушке и глазей в небо, хочешь — катай по улице ребятишек или переоденься да ступай в кино. Что ни говорите, отдых есть отдых, и даже сюда, в эту постылую Каменку, возвращаться из последнего рейса Аня Разоренова очень любила.
Алое вечернее солнце смотрело прямо в лобовое стекло; дети, коих всегда полна улица, орали грачатами. Они просились в кузов, но день сегодня выдался тяжелым, и Аня ни на какие мольбы не отзывалась.
Едва поставила грузовик у летней кухни, в кузов с полынным веничком и подситком, кряхтя по-стариковски, полез хозяин ее квартиры Максим Чугринов, низкорослый тонкошеий мужичок. Сейчас начнет выметать остатки зерна, для кур. Аня усмехнулась: дня три назад в районной газете Максима в числе других назвали тружеником полей…
«Мети, мети, труженик, корми своих несушек, — посмеивалась Аня. — Все вы здесь…»
Бельевое корыто целый день стояло на припеке, и вода в нем нагрелась. Вымыться б этой водой, да негде. Не сходить ли на речку? Поздно, да и неблизко. Съездить? Надоело, не хочу, устала.
— Ань, Хохловы баню протопили. Сходи, если желаешь, звали, — сказал Максим.
Копотную дыру с подслеповатым оконцем зовут здесь баней… Однако и это лучше, чем ничего.
…С улицы, от оградки палисадника, свистнули раз и другой; уже и камушек чиркнул по стеклу окна, но Аня знай себе стояла перед зеркалом, не торопилась. Волосы, вымытые в отваре молодой ромашки, пахли солнечным лугом.
— Скорее, в кино опоздаем!
У оградки Аню поджидал Димка Баннов, вздыхатель, невысокий паренек из местных. Дней пять назад его вызывали в военкомат, остригли наголо, и теперь на месте былой красоты Димка носил кепчонку. Когда он волновался или спешил, кепчонку зачем-то снимал, в голова его казалась приплюснутой, а уши оттопыренными. Аня провела рукой против его стрижки.
— Спрячь свою колючку…
И Димка послушно накрыл срамоту кепчонкой.
Кино смотреть не стали, а пошли к Катерининой избе, потанцевать на убитом земляном толчке. И тут мимо них прошагал высокого роста человек. Шел он стремительно. По уверенному шагу судя, и в темноте этому человеку двор хорошо был знаком. Человек открыл дверь в летнюю кухню, где неярко горела керосиновая лампа и где ужинал в одиночестве хозяин — Максим.
— Можно к вам?
В глубине времянки запрыгала на глинобитном полу вилка, а потом был радостный, помолодевший голос Максима:
— Андре-ей?
И Аня поняла все: с Дальнего Севера приехал третий сын Чугриновых, Андрей, кандидат наук. О нем, впрочем, как и о других детях этой большой некогда семьи, много слышала она от хозяйки, Петровны, видела его на фотокарточках в семейном альбоме, а также под стеклом в простенке.
— Ну пошли, пошли, — поторапливал ухажер.
— Подожди, — а сама слушала, что там, в глубине кухни.
Оттуда несся говор.
— Надолго? — Максимов голос.
— Я мимоходом, в командировке.
— Вот шутоломная работа… И как на грех матери нет, поминки у Верухи в Тростяни, уехала. Ты тоже хорош: приезжаешь молчком.
— Я в сам такой удачи не ожидал. Ну рассказывай, что у нас новенького?
«Приехал из дома, а говорит «у нас», — удивилась Аня.
С вечерок вернулись перед рассветом. Возле оградки, их всегдашнего стояния, Димка взял Анину руку в свою, погладил.
«Неужели не поцелует опять?» — и ненароком коснулась своей щекой его щеки. Димка замер, сжал ей руку покрепче. «Ага, живой, живой… Сегодня что-то будет», — и склонила близко к его лицу такие душистые свои волосы.
Димка по-прежнему гладил ей руку…
— Иди спать! — и пошла.
— Ну, Ань, ну давай постоим еще немножко. — Димка шагал несмело за нею.
— Все. Спать, пора спать, — говорила она, не оборачиваясь.
И Димка постепенно отстал.
«Ворона, тюха… девку поцеловать не может», — злилась и, зажигая керосиновую лампу, истратила три спички подряд. Неяркий огонь высветил на столе две бутылки — пустую и початую.
«Посмотрим-ка, что пьют кандидаты наук?.. Фи, та же грешная водка».
Налила полстакана, умело, одним глотком выпила и стала закусывать.
Почему после вечерок так хочется есть? — хлеб, молоко, помидоры — только давай, только побольше… От водки и от еды по телу расплылась ленивая теплынь, и Аня отправилась спать — на раскладушке за амбаром в саду.
Кажется, только успела закрыть глаза, как послышался грозный, на басах собачий рык; этот рык вот уже второе утро подымает Аню в пятом часу.
…Два дня назад Шибай, огромный кобель соседа Афанасия Тупалова, перегрыз веревку, державшую его сызмальства за высоким плетнем, и, очутись на свободе, с великой радости давай крушить все подряд. До смерти загрыз годовалую свинью, изранил полуторника и коварно, без лая наскочил сзади на Родиона Баранова. Родион нес ярмо и не растерялся: выдернул занозку да протянул кобеля по ребрам. За утраченную свинью Афанасий отвалил две получки, а кобеля посадил на новенькую из магазина цепь и вот второе утро, прежде чем уйти на работу, поучает его хворостиной.
— Дикарь, ах дикарь! — крикнула Аня и полуодетая бегом через сад — в соседский двор.